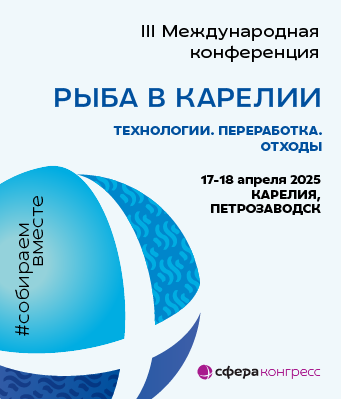Вот уже несколько лет российскую рыбную отрасль лихорадит. Принятые поправки к Закону о рыболовстве, которые должны были помочь обеспечить население России качественной и доступной рыбной продукцией, до сих пор вызывают споры и противостояние между рыбопромышленниками и чиновниками.
Сегодня эти противоречия достигли своего апогея. За их урегулирование взялось руководство страны. 5 декабря 2016 года в Правительстве Российской Федерации состоялось совместное совещание по подготовке нормативных правовых актов для рыбного хозяйства, которое провели два вице-премьера: Аркадий Дворкович и Юрий Трутнев.
Удалось ли найти компромисс между участниками рынка и почему инвестиционные квоты явились камнем преткновения, нашему журналу пояснил Валентин Балашов, председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна.
– Валентин Валентинович, как вы оцениваете результаты разговора с руководителями Правительства России?
– Это было полезно для всех. Хороший формат разговора, конкретный и принципиальный.
– Уже несколько лет идут дебаты между представителями рыбной отрасли и чиновниками о поправках в Закон о рыболовстве. Скажите, чем вызвано внесение изменений в закон? Прежние нормы уже не соответствуют реалиям сегодняшнего дня?
– В июле 2016 года в Закон о рыболовстве были внесены изменения. В Государственной Думе три партийные фракции из четырех голосовали «против». И все же технически противоречивый и в отраслевом смысле спорный текст поправок без учета мнений рыбопромышленников был принят. Сегодня для реализации закона готовятся 25 правительственных постановлений, после этого будут издаваться многочисленные ведомственные приказы. И только после этого, возможно, Закон заработает.
Основной же темой разногласий являются инвестиционные квоты вылова рыбы, типы новых рыбопромысловых судов и квоты для береговых рыбообрабатывающих фабрик. Можно ли было работать и развивать рыбное хозяйство страны по старому закону? Да, несомненно. Доказательством этого является то, что без всякой государственной поддержки в течение последних двух лет уже во время дискуссии о целесообразности изменения законодательства рыбаки построили и модернизировали несколько новых траулеров и береговых фабрик, еще три судна сейчас находятся в стадии строительства на российских верфях, размещаются заказы на новые траулеры и ярусоловы. Жизнь идет вперед, несмотря ни на что.
– Помимо Минсельхоза, свои предложения по распределению инвестиционных квот внесло и Минвостокразвитие. В чем заключаются главные противоречия между Минсельхозом, Минвостокразвитием и рыбопромышленниками?
– Минсельхоз разработал проекты нормативно-правовых актов очень детально: какой длины должно быть судно, для какого рыбохозяйственного бассейна и какого подрайона моря, какая фабрика на борту судна должна быть, где осуществлять лов инвестиционной рыбы и что с ней делать потом, в какой категории банков необходимо взять гарантию и как она должна выглядеть. В тексте много отсылок на статьи Закона о рыболовстве, в которых даются отсылки на другие статьи этого же закона, а там дальше на следующие, и в конце отсылы приводят к этому же самому постановлению. Словом, непростой квест с многочисленными расчетами, процентами, аукционными процедурами и т. п., главный приз которого – получение инвестиционной квоты. Еще один немаловажный пункт данного проекта – из-за нарушения «графика строительного движения» можно потерять уже имеющиеся квоты.
Минвостокразвитие пошло по другому пути – пути заявительного принципа. По их предложению государство должно устанавливать, сколько тонн и какой рыбы выделяется в качестве господдержки на тонну водоизмещения нового рыбопромыслового судна. И всё. Очень коротко. Построил судно на российской верфи – приходи и получи от государства инвестиционную квоту. Какой пароход хочешь, такой и строй, дело хозяйское. Никаких комиссий, проверок чиновниками выполнения графиков строительства и графиков финансирования, сроков и норм отклонения от них, никаких банков с рейтингами, экономических заключений инвестпроекта, круглых печатей, подписей членов комиссий и чиновников. Вся ответственность и организация ложится на рыбодобывающее предприятие.
Как на все это реагируют рыбопромышленники? Конечно, второй вариант, проект Минвостокразвития, интересней. В нем нет бюрократии, все понятно и прозрачно, нет строительной гонки, но есть гибкость при выборе проекта судна и нет дополнительных никому не нужных многомиллионных затрат на «административно-банковские гарантии». Ну а если при этом государство после введения в эксплуатацию нового сейнера, траулера или ярусолова даст судну дополнительно заранее установленную в тоннах квоту на вылов рыбы – кто же откажется? В этом подходе все понятно, просто и без затей.
– Хватит ли рыбакам дополнительных квот для компенсации высоких затрат на строительство флота?
– Вы понимаете, если кто-то получает дополнительные квоты, следовательно, у кого-то их забирают. Так вот, если будет принят вариант Минсельхоза, то под отбор квот попадут малый и средний предприниматели, потому как указанные в проектах нормативных актов размеры океанских судов отсекают большинство участников процесса обновления флота. Если примут проект Минвостокразвития, то в «капиталистическом соревновании» за инвестквоты будут участвовать все компании: и маленькие, и большие, и средние. К судостроительным заводам эта зависимость от ведомственных подходов также имеет прямое отношение.
– Львиная доля в вылове водных биоресурсов принадлежит крупнотоннажному флоту. Но прибрежные рыбаки обеспечивают рыбой береговые рыбоперерабатывающие предприятия. Как вы считаете, должны ли квоты распределяться между ними в равной мере? Выделяются ли инвестиционные квоты для строительства береговых рыбных фабрик или только на строительство судов?
– Вечная тема: что первично «яйцо» или «курица»? Или: где зародилось рыбное хозяйство – в воде или на берегу? Термин «квота» в применении к рыболовству и по закону и по здравому смыслу имеет отношение только к рыбакам. Если давать квоты вылова рыбы береговым фабрикам, рыбным магазинам, производителям тралов, рефрижераторных холодильников и железнодорожных вагонов, то «наступит разруха» и неразбериха. В нашем случае начнется перепродажа квот. От кого кому? От сухопутных «моряков» к рыбакам. Это у нас в отрасли называется «квотные рантье». Отношения берега с морем могут строиться только на рыночной основе, все остальное – это коррупция и спекуляция на государственном сырьевом ресурсе. Похожую ситуацию мы уже проходили в конце 90-х – давали береговым фабрикам квоты, потом годами рыбаки и переработчики в судах делили деньги и вспоминали, кто у кого что «взял».
– Не приведет ли запрет на поставку мороженой рыбы с прибрежных судов к закрытию береговых рыбоперерабатывающих предприятий?
– Этот запрет приведет к развороту рыбаков-прибрежников в сторону промышленного рыболовства, где можно морозить рыбу для ее дальнейшей реализации. Что будут при этом делать береговые рыбоперабатывающие предприятия, можно только догадываться. Скорее всего, они будут искать сырье. Запреты не развивают даже ребенка, не говоря уже об отрасли экономики.
– Сколько рыбных фабрик находится в приморских регионах, а сколько в центральных областях России, откуда они получают сырье, куда сбывают свою продукцию?
– На счет «сколько», думаю, такие цифры можно поискать в Росстате, а «где», то, судя по надписям на банках и вакуумных упаковках, рыба и морепродукты у нас теперь «ловятся» и производятся в основном в Подмосковье и Белоруссии. Прибрежные территории не доминируют на российском рынке рыбной продукции. Кстати говоря, в проекте Минсельхоза инвестиционные квоты, например, на треску Баренцева моря сможет после принятия правительственных постановлений получить и новая фабрика в Махачкале или Гусь-Хрустальном. Сырье береговые производители получают от оптовиков, иногда покупают напрямую у рыбаков. Много импортного сырья из продукции восточной аквакультуры: креветки разные, пангасиусы, теляпии и т. п.
– Как повлияют изменения в законодательстве на позиции российских производителей рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках? Будет ли в России доступная рыба?
– Это во многом зависит от качества нормативно-правовой базы, определяющей доступ предпринимателя к сырьевому ресурсу, стабильности законодательства и гарантий прав пользования водными биоресурсами, а также от уровня фискальной нагрузки и материальных издержек от контрольно-надзорной деятельности. Важна стоимость портовой и транспортной инфраструктуры. Что касается доступности нашей продукции в торговле, то это определяет спрос и предложение – рыбы полно. На внутреннем рынке покупательная способность населения играет определяющую роль. На зарубежных рынках – конъюнктура. Тем не менее, в России рыба всегда была и будет доступна.
– Так в чем же, на ваш взгляд, главная проблема рыбной отрасли сегодня?
– Непросто ответить на этот вопрос. С 2007-го по 2016 год вылов рыбы увеличился почти на 1,5 млн т, это даже по мировым масштабам цифра внушительная, финансовые показатели в рыбном хозяйстве – одни из самых высоких в российской экономике, на волне кризисов мы только поднимаемся. Казалось бы, можно сказать: у нас все отлично. И, тем не менее, есть тревога. В отрасли опять «перестройка». Непрофессионализм и громкие лозунги могут дорого обойтись рыбохозяйственному комплексу России. Вопросы развития, конечно, есть, и их скрывать не надо. Что дальше? Работать, предлагать решения и не бояться говорить правду – это залог отсутствия принципиальных проблем в любой отрасли.